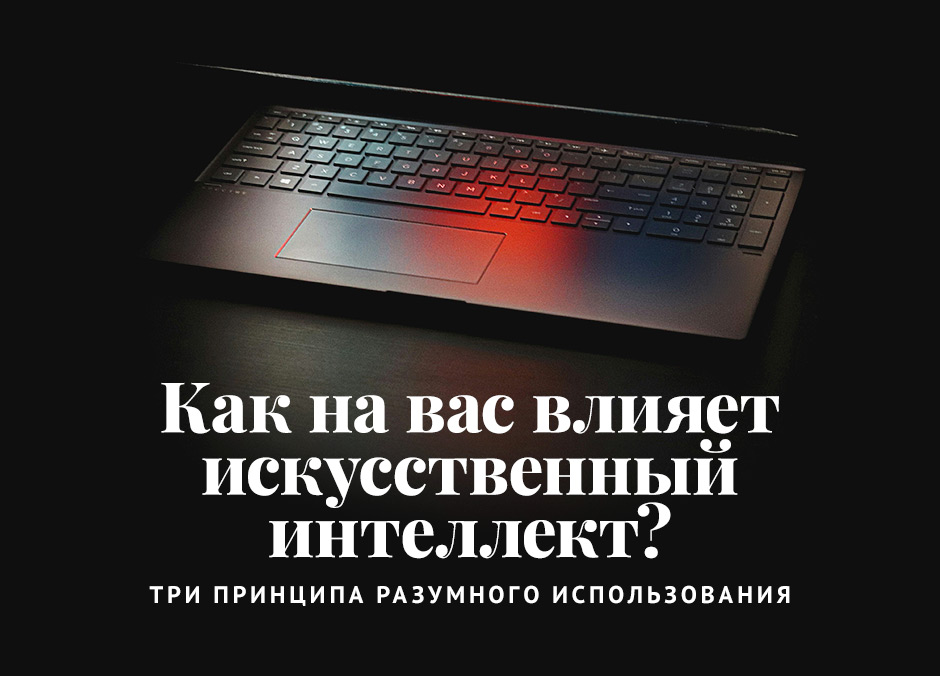В окружении медицинских униформ различной степени измятости мы наложили себе в тарелочки кусочки сыра и, устало опустившись на стулья, тихо обсуждали последние детали жизни этого мужчины…
Моя коллега – главный врач хирургического отделения – не отрывала глаз от своего листка, словно напечатанные на нем слова притягивали ее взор. Она говорила монотонно – как и должно быть, когда приходится возвращаться к картине, которую разум не в силах вынести….
Его привезли парамедики, после того как его сбила машина на высокой скорости. Он был в сознании вплоть до прибытия в больницу. Затем впал в легкую кому – 11 баллов по Шкале Глазго. Частота его пульса была 150. И хотя в сонной артерии был пульс, мы никак не могли поднять кровяное давление. Вскоре он пришел в состояние возбуждения….
Хотя нас и учили, как важно не поддаваться эмоциям и сохранять полную отчужденность, картина разворачивалась перед нами в ярчайших красках. Наши сердца разрывались, когда мы видели все неисправимые последствия каждой травмы. У него было внутреннее кровоизлияние. Кровяное давление падало – а значит, уменьшалось количество кислорода в мозгу, – из-за чего у него началось обморочное состояние. Его симпатическая нервная система вошла в фазу чрезмерной нагрузки. По этой причине кровеносные сосуды сжимались, заставляя его сердце биться в неистовом темпе. Это вызывало у пациента все большую панику.
Врач продолжала свой рассказ, и ее нижняя губа чуть дрожала… Он потерял сознание. Затем пропал пульс. Ему сделали сердечно-легочную реанимацию. Вскрыли грудную клетку в отделении неотложной помощи. Пережали аорту, затем вскрыли брюшную полость. Из тазовой области фонтаном забилась темно-красная, словно перезревший гранат, кровь. Ему затыкали марлей каждый разрыв, переливали кровь, но он все равно истекал кровью. Ему делали прямой массаж сердца руками в медицинских перчатках. Но кровь остановить не удавалось. Через час, несмотря на все старания, его сердце оставалось пустым... без крови. Его неподвижность мертвой тишиной давила на всех в операционной….
Когда она завершила свой монолог и подняла глаза, я увидела в них знакомую печаль – ту глубокую грусть о ком-то, с кем ты соприкоснулся так близко, даже не зная его. Она была свидетелем смерти мужчины, которого другие называли сыном, отцом, братом, наставником, другом, любовью всей своей жизни. Она видела последние признаки его жизни, боролась за эти признаки до последнего. Однако видела их только на мониторе – как и последние судорожные вздохи и дрожь умирающего тела. И когда она держала в своих руках его трепещущее сердце, она не могла видеть, как он просеивал песок в русле реки в поисках золота или писал цветным карандашом записку своей первой любви. Не могла она увидеть и его путешествие в парк Джошуа-Три, его портрет отца с чуть затуманенным взором и его первый танец с женой. Ее вмешательство в его жизнь было жестким и коротким подобно пронесшемуся урагану. И теперь она чувствовала себя без него разбитой, словно выброшенный на берег обломок корабля.
Я прекрасно понимала ее скорбь – как и все наши коллеги, собравшиеся вокруг стола. Однако, наблюдая за ней, видя, как стиснуты ее зубы, несмотря на все потрясение, я осознала кое-что еще.
“Мы выбрали неправильный операционный стол, – прошептала она. – Я не уточнила этот момент. Возможно, все сложилось бы по-другому”. Слезы блеснули у нее в глазах. “Это моя вина”.
Ее попытки спасти этого мужчину были поистине героическими. Когда его привезли в отделение скорой помощи, концентрация кислоты в его крови в четыре раза превышала норму. Его белки “развернулись”, перестав представлять собой компактную конфигурацию, и свободно дрейфовали среди деформированных кровяных клеток. Гипотермия парализовала его ферменты. Его кровь, став такой жидкой, как вода, не сворачивалась. Когда парамедики доставили его в травмпункт, он уже был на пути в загробную жизнь.
Никакой особый операционный стол не смог бы остановить неотвратимую смерть. Однако ее плечи прогибались под бременем вины. Я видела, с каким усилием воли она пытается успокоиться, и знала, что она анализирует каждую минуту, каждое свое решение, каждое свое слово, каждое движение своей руки – и чувствовала всю тяжесть ее состояния. Никакие слова утешения не смягчили бы ее чувство вины. Наша работа как врачей была сосредоточена на секулярной медицине, а не Евангелии. Это была философия, в словаре которой нет концепции искупления.
Плата за грех – смерть. И врачи на своей шкуре испытывают все серьезность этих слов. Рак, травмы в результате ДТП, инфекционные эпидемии, отказ работы органов – такие трагедии исходят из нашего падшего состояния и подчеркивают ужасную цену бунта против Бога (Быт. 3:22-24). Страдания умирающих напоминают нам о страшной пропасти между нами и Богом, о нашем отчуждении от Спасителя. Все творение стенает из-за рабства. Пациенты стенают от боли. И христиане стенают, ожидая искупления своего тела (Рим. 8:22-23; 2 Кор. 5:2-4).
И хотя мы погрязли в трясине скорби и греха, медики работают в системе, в которой нет места разговорам о Боге. Пропитанное секуляризмом медицинское образование игнорирует происхождение болезней и смерти – и суверенность Бога во всем этом. Мы учимся изучать все имеющиеся данные, брать на себя ответственность за изменение величин этих данных. Мы изучаем все премудрости биохимии, фармакологии, анатомии и биологии. Мы проходим курсы этики. Мы жертвуем своими потребностями в еде, сне, общении с семьей, заботе о своем теле ради пациентов, которые медленно умирают на своих больничных матрацах. Когда мы произносим клятву Гиппократа “не навреди”, то этим признаем свой главный риск – НАВРЕДИТЬ! Страх неумышленно навредить страдающим людям всегда преследует нас, змеей вползает в наши мысли.
Между тем, напряжение между моральной ответственностью людей и Божьей верховной властью проявляется вокруг нас ежедневно. Пациенты умирают, несмотря на всю медицинскую технологию, рациональность и тонко подогнанные протоколы. Рак снова возвращается, несмотря на то, что больного объявили здоровым. Грех врывается во все палаты и больничные коридоры. Когда мы теряем пациента, то вспоминаем свои мудреные книги… и смотрим на свои руки, которые не смогли спасти человека. И приходим в отчаяние. Затем читаем свои отчеты монотонным голосом, ощущая всю тяжесть бремени под названием грех. Это бремя давит на нас так сильно, что тяжело дышать, видеть и надеяться.
По сравнению с общей массой населения, среди врачей в два раза больше случаев суицида. Что неудивительно. Без Христа каждодневные медицинские будни постепенно разрушают психику. Карьера медика требует от него ежедневного столкновения с грехом (его последствиями) в подробном графике, однако учебники, справочники, инструменты и десятилетия обучения не предлагают никакого контекста для прощения. Иосиф понимал, что Бог работает даже с материалом зла (Быт. 50:20). Медицина же требует от своих последователей борьбы со злом и при этом возлагает на них вину за всякий провал.
Молитесь о медицинских работниках. Когда вы идете к участковому терапевту проверять свой уровень холестерина или титровать лекарство для кровяного давления; или когда проходите болезненную химиотерапию; или когда ложитесь на операционный стол; или даже когда вам спасают жизнь в отделении интенсивной терапии – молитесь о врачах. И когда молитесь о том, чтобы они наилучшим образом использовали свои знания и умения, занимаясь вашим лечением, молитесь также и об их вере.
Молитесь о том, чтобы они могли увидеть и принять Христа, Который пролил Свою кровь, чтобы однажды жизнь смогла поглотить смерть (1Кор. 15:54).
Молитесь, чтобы они увидели и приняли истину воплощения Христа, Который взял на Себя всю нашу боль и смерть, чтобы избавить нас от жала смерти (Евр. 2:14-15).
И молитесь о том, чтобы они познали, что божественная воля всегда в действии – даже в больнице; даже в операционной; даже когда наши слабые руки не смогли вернуть к жизни безжизненное сердце.
Катрин Бутлер, медик
Голос Истины по материалам Desiring God
Последнее: 04.03. Спасибо!